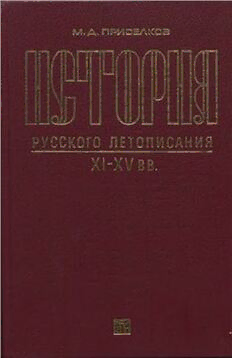Table Of Contentin r T i
Ч I
I !)
fl ^
'« «ё II
1 1 П
г> W Г» г* S/ л . гЙ- Гл% п t Y л П 1Л г- 5 Ч <3
i/ ь• 4иiw/ ^ I М « ^ ••• j'l^ka
X 1-XVBB
у
STUDIORUM SLAVICORUM MONUMENTA
Curat D. Bulanin
STUDIORUM SLAVICORUM MONUMENTA
Tomus 11
PETROPOUS
1996
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
м. д. ПРИСЕЛКОВ
ИСТОРИЯ
РУССКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ
XI—XV вв.
Подготовлено к печати
В. Г. ВОВИНОЙ
С.-ПЕТЕРБУРГ
1996
Исследователь истории и летописания Древней Руси М. Д. Приселков (1881 —
1941) был ближайшим последователем академика А. А. Шахматова. Восприняв тек
стологический метод А. А. Шахматова и развив его, М. Д. Приселков создал первый
в науке труд, посвященный истории такого своеобразного жанра исторического пове
ствования, каким были летописи. «История русского летописания XI—XV вв.», издан
ная в 1940 г. как университетский курс, была снабжена очень скромным научным
аппаратом. Эта книга давно уже стала библиографической редкостью. В настоящем
издании даны все необходимые ссылки на источники и литературу; учтена вся но
вейшая научная литература, посвященная вопросам, которые рассматриваются в
книге М. Д. Приселкова.
Отв. редактор
Я. С. ЛУРЬЕ
Рецензенты: В. М. ПАНЕЯХ
А. Н. ЦАМУТАЛИ
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
согласно проекту № 95-06-31935
© В. Г. Вовина, подготовка текста,
указатели, 1996
© Я. С. Лурье, предисловие, примечания,
1996
ISBN 5-86007-039-Х © Н. И. Милютенко, примечания, 1996
© Издательство «Дмитрий Буланин», 1996
ПРЕДИСЛОВИЕ
Михаил Дмитриевич Приселков родился 7 сентября 1881 г. в Пе
тербурге в семье протоиерея (Пантелеймоновской, впоследствии
Владимирской церкви).
Юность М. Д. Приселкова была нелегкой. «Имущественное поло
жение семьи было таково, что я начал работать (давать „уроки") с
пятого класса гимназии, т. е. с 14 лет», — отметил Михаил Дмитрие
вич в своей автобиографии, написанной в 1935—1936 гг.^
В 1899 г. М. Д. Приселков окончил 3-ю Петербургскую гимназию
и в том же году поступил на историко-филологический факультет
университета; в 1903 г. был «оставлен по кафедре русской истории»
(т. е., как мы теперь говорим, принят в аспирантуру). Довольно рано
он начал преподавать в среднем учебном заведении (I Кадетском
корпусе), с 1907 г. стал читать лекции и вести практические занятия
в качестве приват-доцента университета. Но путь его к магистерской
степени оказался довольно сложным. Если бы он защитил диссер
тацию на кафедре русской истории, то рассчитывать на дальнейшую
работу в университете было бы трудно. Заведовавший кафедрой
С. Ф. Платонов предпочитал иметь на кафедре своих непосредствен
ных учеников. Поэтому М. Д. Приселков в 1907 г. счел более разум
ным готовить свою магистерскую диссертацию при кафедре истории
русской церкви, которую возглавлял профессор И. Д. Андреев.
Одновременно он стал преподавателем в Психоневрологическом
институте, основанном В. М. Бехтеревым, и на Высших женских
курсах — в двух наиболее либеральных учебных заведениях Петер
бурга.
Этому выбору места работы соответствовали, по-видимому, и
политические взгляды молодого историка. Уже в 1905 г. он сблизился
с ученым, который официально не считался его научным руко
водителем, но фактически стал на всю жизнь учителем и на
ставником — Алексеем Александровичем Шахматовым. Переписка
между ними во все предреволюционные годы была систематической,
хотя и не очень обильной: ведь они жили в одном городе, и писал
* СПб. филиал Архива РАН, ф. 133,оп. 1, ед. хр. 554, л. 38—40 об.
6 я. с. Лурье
Приселков Шахматову в тех случаях, когда не решался беспокоить
его лично (ряд писем был как раз связан с договоренностью о
визитах). Но из писем видно, что их обоих сближали не только на
учные интересы.
В 1906 г. М. Д. Приселков писал Шахматову; «Я только что узнал
о том, что П. Н. Милюков не имеет ценза, чтобы пройти в Думу
(речь идет о II Гос. Думе. — Я. Л.), п нахожусь весь день под живым
впечатлением этого невеселого сообщения. Как это можно было
просмотреть?! П. Н. вывез бы один на себе весь к.-д. список по Пе
тербургу; теперь же этот вопрос, по-моему, значительно осложнен.
Я не говорю о том, что для Думы это будет потеря, так как П. И.
все равно будет привлечен к ее работе, но список много проиграет.
Если даже по последнему списку одним из кандидатов выставлен
А. К. Бороздин, то это, конечно, не к успеху партии. А. К. я знаю,
и, конечно, не с худой стороны, но разве это политическая фигура,
способная дать голоса? Верите, я 1шямо опечален этой новостью и
не хочется верить. Положение и общий учет наступающего ведь и
так не весел».^ «Партия» названа лишь сокращенно («к.-д.»), но
ясно, что речь идет о партии конституционных демократов («каде
тов», «Партии народной свободы»), которой сочувствовала либераль
ная академическая интеллигенция, членом ее Центрального комите
та был А. А. Шахматов.
Политические позиции Шахматова в те годы еще яснее обна
руживаются из письма сверстнику и другу Л. В. Ш,ер<бе 17 февраля
1907 г.: «Времена такие, что самым подлым образом падаешь духом
и хочешь поддержки... Реакция — омерзительна, так как развраща
ет и дух человека, и жизнь общества.
Кто подленько виляет хвостом, кому благо родины и народа —
сладенькие слова, — тому только и жить у нас в России... Послезав
тра собирается 2 Дума. Измученная родина не ждет скорого в ней
исцеления. Думу разгонят — вот общий голос. И если еще есть во
прос, то только — когда? Что же будет дальше? Я стараюсь не ду
мать. Худо все, что сейчас, что будет в ближайшем будущем.. .».^
В начале 1911 г. разразились студенческие волнения, связанные с
отменой университетской автономии. По распоряжению управляю
щего Министерством народного просвещения Л. А. Кассо 5 февраля
был исключен из числа студентов университета младший брат
М. Д. Приселкова Николай (учившийся на естественном отделении);
22—23 ноября того же года он подвергся аресту и обыску.^ В связи с
этими событиями М. Д. Приселков обращался к А. А. Шахматову, в
письмах к которому он, как прежде, обсуждал не только научные, но и
общественные вопросы (например, деятельность «Лиги образования»,
созданной в предшествующие годы): «В ночь с 22 по 23 ноября с. г. по
ордеру охранного отделения в моей квартире, в комнате моего брата
Николая Приселкова, был произведен безрезультатный обыск, сопро
вождавшийся арестом брата и конфискацией не прочитанной при обы-
^ Там же, ф. 134 (А. А. Шахматова), оп. 3, ед. хр. 1237, л. 10 об.—П.
^ Там же, ф. 770 (Л. В. Шербы). оп. 2, ед. хр. 109.
ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 3, ед. хр. 52487, л. 4 и 41.
Предисловие
ске переписки. С утра 23 ноября и до сих пор брат находится в Спас
ской части, числясь за охранным отделением. В охранном отделении
нам сообщили, что обыск и арест вызван подозрением участия брата в
подготовке сходки, имевшей место 23 ноября в стенах нашего Уни
верситета, что никаких прямых улик, однако, нет, кроме подозрения,
что он знал о подготовляемой сходке, но не предпринял ничего против
нее; что отягчающим обстоятельством во всех подозрениях является
факт увольнения брата из числа студентов нашего Университета в
январе текущего года. По всем „подозрениям" охраны могу с совер
шенной уверенностью говорить о полной картине какого-то досадного
недоразумения. Последнее обстоятельство — увольнение из Универ
ситета, — как едва ли не самое главное в глазах охраны, — для Вас не
требует каких-либо пояснений, так как случайность и неспра
ведливость его по отношению к брату Вам известна, а мне памятно
Ваше участие и содействие в деле возвращения брата в число студентов,
до сих пор, к сожалению, бесплодное. По сведениям от самого брата
знаю, что его за эту неделю допрашивали один раз, предъявив ему
обвинение в подготовке сходки 23 ноября, в участии в с[оциал )-д [емо-
кратической ] фракции Университета и в посещении Университета после
удаления из числа студентов. Никаких оснований к этим пунктам, одна
ко, не давали, кроме ссылки на „агентские сведения"...».
Из письма 11 ноября 1912 г. видно, что Шахматов, хотя был главой
одного из отделений Академии и директором ее Библиотеки (по то
гдашней табели о рангах — штатский генерал), не смог помочь
Приселкову восстановить ^ата в университете. М. Д. Приселков
писал: «Дело моего брата в безнадежно плохом положении. Узнав от
Вас о секретном полицейском veto на его обратный прием, я через
Г. Ад. Фальборха узнал еще, что сделать что-либо для снятия этого
veto можно не в градоначальстве, а в охранном отделении... Директор
I корпуса (кадетского, где преподавал Приселков. — Я. Л.) (генерал-
лейтенант Григорьев) предложил мне свое содействие. Конечно, его
приняли там, он видел полковника Коттена и выяснил, что Охранное
отделение ни в коем случае не может допустить обратного приема бра
та, так как у них имеются будто бы непреложные данные, что он раз
множал прокламации в январе 1911 г. по поводу академической заба
стовки. По моей просьбе генерал еще раз виделся с Коттеном, выяснял
ему ошибочность их данных... То, что мне рассказал о нравах Охран
ного отделения возмущенный генерал, настолько потрясающе подей
ствовало на меня, что думаю и тоскую, как мне быть: уходить ли из
Университета самому или нет? (№Например. Коттен жаловался, что
нет отбоя от желающих продаться Охранному отделению и есть нема
ло служащих студентов за пять руб. в месяц). Все это так постыдно и
противно вспоминать, когда входишь в аудиторию... Поведение
наших „старших товарищей" таково, что стыдишься перед студен
тами, а студенты получают отказ в их порывах служить царю и родине
за 5 р. в месяц!
Бывали хуже времена, но не было подлей!».^
^ СПб. филиал Архива РАН, ф. 134, оп. 3, ед. хр. 1237, письмо 2 марта 1913 г.
8 Я, С. Лурье
Лишь год спустя, в ноябре 1913 г., Николай Приселков был вос
становлен в университете.
Письма Шахматову за последующие годы посвящены преимуще
ственно академическим темам или договоренностям о визитах к
Шахматову — обычно не в одиночку, а вместе с еще двумя из «трех
мушкетеров», как они себя именовали, — В. Н. Бенешевичем и
М. Р. Фасмером.^
Готовилась публикация книги, которая должна была стать
магистерской диссертацией М. Д. Приселкова: «Очерки церковно
политической истории Киевской Руси X—XII вв.», но автор чувст
вовал себя далеко не спокойно. «История моей книги — моя история
в Университете. Кто я? Русские историки считают меня историком
русской церкви (как будто это что-то совсем особое!), историки
церкви — русским историком. Я не хочу судить, кто прав, кто
ошибается, но я хочу надеяться, что среди членов факультета я в
Вашем лице найду поддержку своей смелости — заниматься наукой,
против которой поставлены рогатки Университетского устава...», —
писал он в начале 1913 г. А. А. Шахматову.^
19 января 1914 г. состоялась защита магистерской диссертации
М. Д. Приселкова. Она оказалась чрезвычайно бурной. На диспуте
выступали 7 человек — все они оспаривали многие тезисы исследо
вания, что, впрочем, не помешало присуждению ученой степени и
аплодисментам: в те времена спорность исследования считалась его
достоинством. Основным предметом спора было предположение
М. Д. Приселкова, что до назначения первого русского митрополита
Феопемпта в 1037 г. русская церковь подчинялась болгарской
Охридской епархии. Диссертант настаивал на том, что гипоте
тичность построений не является специфической особенностью его
работы, «так как и прежде исследования в этой области должны были
прибегать к помощи гипотез».* В сущности, основным предметом
спора был вопрос о том, должен ли ученый при установлении
исторических фактов основываться всецело на исследованиях
источников или же ему следует в равной мере опираться на труды
«весьма почтенных историков, которые писали по тем вопросам, ко
торые он разбирает в своей книге». Выступивший на диспуте и
опубликовавший рецензию на книгу Приселкова А. Королев объяс
нял интерес к этой книге «тем, что в наше время переоценки всяких
ценностей многим нравится в науке сокрушение старых теорий и
создание новых, как бы последние ни были пapaдoкcaльны».^
Профессор Киевской Духовной академии В. Завитневич, резко воз-
^ Плодом совместного труда «трех мушкетеров» была статья М. Д. Приселкова
«Отрывки В. И. Бенешевича по русской истории», посвященная В. Н. Бенешевичу и
напи^нная совместно с М. Р. Фасмером (ИОРЯС. 1916. Т. 21, кн. 1).
СПб. филиал Архива РАН, ф. 134, оп. 3, ед. хр. 1237, письмо 5 января 1913 г.
Отчет о магистерском диспуте М. Д. Приселкова // Научный исторический
журнал (СПб.). 1914. Т. 2, вып. 1 (№ 3). С. 133—137. Подробнее об этом диспуте
см.: Лурье Я. С. Михаил Дмитриевич Приселков — источниковед // ТОДРЛ. М.; Л.,
1962. Т. 18. С. 465—466. Ср. также: Вернадский Г. В. Из воспоминаний//Вопр.
истории. 1995. № 1. С. 139—140.
^ ЖМНП. 1914. № 10. С. 387-400.