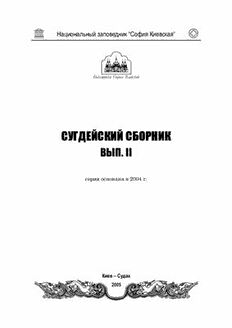Table Of ContentНациональный заповедник “София Киевская”
Áèáëèîòåêà Ñîôèè Êèåâñêîé
СУГДЕЙСКИЙ СБОРНИК
ВЫП. II
серия основана в 2004 г.
Киев – Судак
Сугдейский сборник. Вып. II. 2005.
Комар А.В.
РАНГОВАЯ СЕМАНТИКА НАБОРНЫХ ПОЯСОВ КОЧЕВНИКОВ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ VII — НАЧ. VIII В.
Вопрос знаковой семантики наборных поясов кочевников VII —
Х вв. достаточно давно и хорошо изучен на теоретическом уровне
[Плетнёва 1962; 1967; 1989; Распопова 1965; Ковалевская 1972; 2000;
Добжанский 1990]. Многочисленные примеры упоминаний письмен-
ных источников не оставляют сомнений в том, что наборные пояса в
эпоху раннего средневековья отражали происхождение, должностной
или военный ранг, заслуги их собственников. Но какие именно де-
тали пояса были значимыми, и каким именно способом передавался
„язык” социальных, военных и должностных рангов?
В Византии VI — VII вв. пояс свидетельствовал о должности его
собственника в системе государственного аппарата или же о его на-
хождении на военной службе [Божилов, Димитров 1995, с. 33; Кова-
левская 2000, с. 214]. Согласно параграфу 23 „Книги эпарха”, за
нарушения эпарх „будет лишен пояса и звания”, а по словам Про-
копия Кесарийского [HA, XIV, 8], при ревизии у непригодных к
военной службе и состарившихся солдат гвардейцы отнимали пояса
[Прокопий Кесарийский 1993, с. 396]. В то же время, эпизод из книги
Феофилакта Симокатты (Кн.VI, 4–18) свидетельствует о том “форма
сгибов” золотых поясных деталей “обличала высокое положение
владельца” [Феофилакт Симокатта 1996, с. 174–175]. Играл знаковую
роль и материал деталей пояса — рассказывая о бесчинствах
стасиотов в Константинополе, отнимавших у встречных “и одежду, и
пояс, и золотые пряжки, и всё прочее, что у них было”, Прокопий
Кесарийский [HA, VII, 15–18] отметил: “По этой причине большинство
людей впредь стало пользоваться медными поясами и пряжками и
носить одежду много хуже той, что предписывал их сан” [Прокопий
Кесарийский 1993, с. 338, 339]. В юридическом кодексе Юстиниана
даже был выписан перечень драгоценных камней, запрещённый к
использованию в украшениях всем, кроме императора [Codex
Justinianus, XI, 11]. Прокопий Кесарийский [BP, Кн.I, XVII, 28] также
отмечает, что и у персов было “запрещено носить золотые перстни,
пояса, пряжки или что–либо подобное, если это не пожаловано царём”
[Прокопий Кесарийский 1993, с. 53]. Ещё чётче система рангов была
выписана у китайцев, где каждой должности соответствовали опреде-
лённые материал, цвет и тип украшений пояса [Добжанский 1990].
Суммированные В.Н. Добжанским сведения тюркских руничес-
ких надписей и этнографии [Добжанский 1990] показывают, что у
древних тюркских народов пояс принадлежал к обязательным эле-
ментам верхней одежды. Самый простой полотняный пояс носили все
члены общества, независимо от пола и возраста; более дорогие расши-
тые или кожаные пояса также зависели лишь от достатка их собст-
венника. Особое же значение имели бляшки, украшавшие пояс.
160
Комар А.В. Ранговая семантика наборных поясов …
Рунические надписи свидетельствуют, что количество бляшек отра-
жало „геройскую доблесть” собственника пояса. Число бляшек, назы-
ваемое при этом — до 50–ти — могло отражать количество проведен-
ных битв, число убитых врагов и т.д. Вместе с тем, особо выделялись и
конкретные типы „должностных” бляшек: “На поясе мы водрузили
луновидную пряжку. Так как у него была доблесть, то у хана достиг
мой бег пряжки тутука” [Добжанский 1990, с. 49]. Поскольку во мно-
гих тюркских погребениях с конём и мечом деталей поясов не обнару-
жено, В.Н. Добжанский предположил, что в таких случаях речь шла о
воинах, выдвинувшихся их рядовой массы благодаря своим личным
качествам [Добжанский 1990, с. 74]. Но, следуя этой гипотезе, все
погребения с наборными поясами, таким образом, должны принадле-
жать только воинам знатного происхождения.
Разъяснить эту ситуацию помогает более ранняя Бугутская над-
пись второй пол. VI в., упоминающая главные ранги I Тюркского
каганата. Нижняя, наиболее массовая прослойка воинов здесь назва-
на просто “конными воинами”, затем следовали тудуны и куркапыны,
выше — тарханы и шады (шадапыты) [Кляшторный, Лившиц 1971,
с. 139–141]. Поскольку в перечне не упомянуты главы родов и
племён — беги — и правители зависимых народов — эльтеберы —
данная иерархия более напоминает военную. Усиливает это впечат-
ление и то, что из членов каганской семьи не упомянуты ни джабгу,
ни тегин, а только шады (шадапыты), чаще всего возглавлявшие
войска в походах. В позднем Хазарском каганате, во времена дво-
евластия, именно шад командовал войсками [Новосельцев, 1990,
с. 141]. Знатные воины в Бугутской надписи именуютя “тарханами”.
Этот титул общетюркский, известный у многих исторических тюркс-
ких народов. У хазар тарханы занимали уверенную позицию много-
численной родовой знати, составлявшей ударную силу хазарской
конницы. К примеру, Ал-Куфи сообщает, что в 708 г. в Дербенте нахо-
дились 1 тыс. тарханов, а в 737 г. против 120-тысячного арабского
войска Мервана “Хазар-тархан” выступил с 4 тыс. “детей тарханов”
[Новосельцев 1990, с. 118].
Ниже тарханов перечне фигурируют тудуны, хотя по другим
источникам тудуны известны в основном как знатные каганские
наместники зависимых областей. В данном случае, очевидно, следует
вспомнить наличие тудунов не только у каганов, но и у шадов с
функциями распорядителей-ревизоров [Мойсей Каганкатваци, 1861,
с. 128], т.е. “тудунами” назывались представители разных социаль-
ных рангов, занимавшие должность распорядителя кагана или чле-
нов его семьи (йабгу, шадов). В одном ряду с тудунами Бугутская
надпись упоминает и куркапынов — дословно “держащие пояс”.
Древнетюркское qur имеет параллельное значение “чин”, а звание
“куркапын” однозначно не случайно означало одновременно “держа-
щий пояс/чин” [Кляшторный, Лившиц 1971, с. 142]. Именно курка-
пынов и следует считать низовыми военачальниками, выдвинувши-
161
Сугдейский сборник. Вып. II. 2005.
мися из среды рядовых воинов не благодаря своей знатности, а благо-
даря выдающимся личным качествам.
Проникновение поясных наборов “геральдического” стиля, свя-
занных по своему происхождению со средой пограничных визан-
тийских федератов [Амброз 1981, с. 16; 1994, с. 49; Айбабин 1990,
с. 57], в среду кочевников Восточной Европы произошло в период I
Тюркского каганата. К сожалению, письменные источники не содер-
жат информации о том, насколько сильным было влияние госу-
дарственной организации каганата на общества зависимых от него
кочевнических народов Восточной Европы. Пример булгарского пле-
мени унногундуров, сохранившего самостоятельную систему социаль-
ных рангов и собственную организацию, отражённую в праболгарских
надписях [Бешевлиев 1992], как мы уже демонстрировали [Комар
2005], указывает на преувеличение рядом исследователей степени
влияния тюрков на подчинённые им племена. С другой стороны,
имеющиеся в нашем распоряжении суммарные данные о социальной
стратификации тюрков, булгар и хазар позволяют довольно оптимис-
тически оценивать возможность идентификации рангов восточноевро-
пейских кочевников VII — нач. VIII в. в случае их доказательного
выделения на основании анализа поясных наборов.
Существующие в литературе мнения о стратификации поясов
восточноевропейских кочевников VII в. базируются в основном на
оценке статуса пояса по его стоимости. А.К. Амброз считал, что пояса
с бронзовыми и серебряными деталями принадлежали рядовому
населению, а высшая знать носила пояса с золотыми псевдопряж-
ками [Амброз 1981, с. 17]. Р.С. Орлов уточнил это предположение,
указав на развитую стратификацию внутри самой группы IV,
соотнесённой А.К. Амброзом с рядовым населением [Орлов 1985,
с. 101–104]. А.И. Айбабин первым предложил систему ранговых
оценок погребений: ранг I — погребения с бронзовыми наборами
(Ковалёвка, Дымовка) — бедные воины; II — погребения с серебряны-
ми наборами с золотыми вставками — богатые воины (Портовое, к. 14
Белозерки); III — комплексы с золотыми поясами — военные вожди
разных рангов (Ясиново, Келегеи, Новые Санжары, Макуховка,
Лимарёвка); IV — поминальные комлексы с богатым набором инвен-
таря — представители правящего рода (Перещепина, Глодосы, Возне-
сенка) [Айбабин 1985, с. 202]. А.Г. Атавин на материалах восточно-
приазовской группы погребений также выделил три социальных
группы: I — погребения с серебряными и бронзовыми деталями поя-
сов — „дружинные” (Малаи, п. 10 к. 4 и п. 3 к. 30 Калининской); II —
серебряный пояс плюс меч с серебряными обкладками — „дружинная
верхушка” (Чапаевский); III — пояса с тонкими золотыми деталя-
ми — „вожди” (Крупский, Старонижестеблиевская) [Атавин 1996,
с. 230, 231]. Отметим, что оценка Ч. Балинтом подобного последней
группе погребения из Уч-Тепе как погребения представителя высшей
знати [Balint 1978, p.185] в своё время вызвала критику со стороны
А.И. Семёнова, указавшего на явные отличия погребений данного
162
Комар А.В. Ранговая семантика наборных поясов …
ранга от комплексов реальной высшей знати круга Перещепины и
Вознесенки [Семёнов 1987, с. 60]. О.М. Приходнюк подошёл к проб-
леме социальной стратификации погребений по тому же имуществен-
ному признаку: малоинвентарные погребения — рядовое население;
погребения с серебряными поясами и отдельными золотыми деталя-
ми — “средняя прослойка”; погребения с серебряными и золотыми
деталями из Портового и Васильевки — “знать”; комплексы круга
Перещепины — “верховная знать” [Приходнюк 2001, с. 34–41]. Ана-
лиз имущественного соотношения комплексов в соединении с оценкой
золотых поясных деталей как признака представителя власти, позво-
лил нам поддержать выделение 4 групп, предложенное А.И. Айба-
биным, с их последующей идентификацией с древнетюркской соци-
альной системой: группа I — комплексы “сивашовского” типа с брон-
зовыми и серебряными поясами — рядовое население; II — комплек-
сы “арцибашевского” типа с поясами с золотыми зернёными вставка-
ми — родовая знать (тарханы); III — комплексы “келегейского” типа с
крупными золотыми поясами — главы отдельных родов и племён
(беги); IV — Перещепина, Глодосы, Вознесенка — представители пра-
вящего рода [Комар 2002; 2005]. Наконец, несколько нестандартную,
в свете общих тенденций, “половозрастную” версию о соотнесении
погребённых с “геральдическими” поясами с “эрами” предложил А.В.
Ивченко [Ивченко 1999].
Древнетюркское er полисемантично — “мужчина, муж, воин,
герой”, но это слово в общетюркской традиции в основном обозначало
женатого мужчину средних лет, члена рода и племени. В киргизском
эпосе эр описывается так: “Каждый, кто имеет свой эль (род, племя),
видно, считается эром. Что он ни скажет, слово его имеет вес”
[Сравнительно-историческая грамматика…, с. 661]. Значения “муж,
воин, герой” — уже производные от начального. Причины вторич-
ности значения “воин” объясняют тюркские рунические надписи. Со-
гласно эпитафии из Саргал–Аксы, воинами древние тюрки станови-
лись довольно рано: “в девять лет я [уже] служил имеющему знамя
хану и следовал [за ним]” [Кызласов 1993, с. 224]. Но эром юноша
(джигит) становился лишь получив “мужское имя”, пройдя через
определённые испытания и проявив себя подвигом в какой-то сфере.
Более банальный путь достигался браком, но существовавший уже в
древности обычай обязательного выкупа невесты фактически замы-
кал круг, поскольку добыть необходимые средства или даже саму
жену часто становилось возможным только за счёт военной добычи.
Впрочем, положение эра никак не гарантировало достатка — мало-
имущие эры пасли чужой скот и даже в поход выступали на одолжен-
ных у бегов лошадях, за что заслужили у Махмуда Кашгарского эпи-
тет “эры, подобные рабам” [Кляшторный 2003, с. 473–481]. Версию
А.В. Ивченко о символизации поясом звания эра, т.е. “зрелого”
мужчины, для кочевников Восточной Европы VII в. приходится
отбросить сразу. В погребении подростка 10–11 лет из п. 3 Рябовки
находился пояс из бронзовой пряжки, серебряного наконечника и
163
Сугдейский сборник. Вып. II. 2005.
бронзовой “двурогой” бляшки (рис. 2: 21–23), а в погребении юноши из
п. 2 к. 5 Родионовки найден пояс начального уровня с бронзовой
пряжкой и двумя латунными наконечниками ремней (рис. 1: 21–23).
В то же время, в погребении старого человека из п. 5 к. 9 Бородаевки
в сопровождении седла и костей коня [Синицын 1947] найдена только
одна бронзовая пряжка, а в погребениях зрелых людей в п. 1 к. 1
Авиловского [Синицын 1954] и п. 12 к. 1 Верхне-Погромного I [Шилов
1975], сопровождавшихся луками (в последнем случае даже
обломками сабли) и костями лошади, никаких поясных деталей не
обнаружено. Поволжские комплексы, оставленные зрелыми воинами,
скорее всего, наглядно демонстрируют существование нетитулован-
ной прослойки “конных воинов”, вооружённых луками и саблями, но
так до смерти и не получивших права на ношение наборного пояса.
Рис. 1. Пояса I типа: 1, 2 — Новосёлки; 3, 4 — п. 2 к. 2 Сивашского; 5–9 — п. 4 к. 1 Изобильного;
10, 11 — п. 12 к. 7 Христофоровки; 12, 13 — п. 1 к. 8 Христофоровки; 14–16 — п. 2 к. 1F Аджиголя;
17–20 — Зиновьевка; 21–23 — п. 2 к. 5 Родионовки.
В п. 2 к. 2 Сивашского [Комар, Кубышев, Орлов 2005] погребён-
ный зрелого возраста был снаряжён луком и боевым ножом, а также
чучелом коня. Его обувь украшена серебряными бляшками, также
серебряными бляшками украшался и портупейный ремешок боевого
ножа. Но пояс состоял лишь из железной пряжки и серебряного
наконечника ремня (рис. 1: 3, 4). Такой же пояс из пряжки и наконеч-
ника (рис. 1: 1, 2) находился и в погребении из Новосёлок [Богачёв
1998]. Имущественный статус погребённого из п. 2 к. 2 Сивашского
164
Комар А.В. Ранговая семантика наборных поясов …
несомненно позволял украсить пояс хотя бы одной бляшкой, но этого
не произошло. Следовательно, он также принадлежал к разряду “кон-
ных воинов”, а пояса без бляшек на основном ремне можно выделить
в первый тип поясных наборов.
В рамках типа I выделяются два варианта поясов: вариант Iа —
без наконечников дополнительных ремешков (рис. 1: 1–4), и вариант
Iб — с наконечниками и бляшками дополнительных ремешков.
Рис. 2. Пояса II типа: 1–4 — п. 2 к. 3 Иловатки; 5–7 — п. 7 к. 1 Костогрызово; 8, 9 — п. 2 к. 14
Дымовки; 10–13 — Епифанов; 14–18 — п. 12 к. 8 Богачёвки; 19 — к. 35 Виноградного; 20 — п. 12
к. 13 Рисового; 21–23 — п. 3 Рябовки; 24, 25 — п. 7 к. 7 Христофоровки.
Наиболее яркий комплекс с поясом варианта Iб — п. 4 к. 1 Изо-
бильного [Айбабин 1999] — погребение воина с мечом. Его обувь и
портупея меча украшены серебряными пряжками, обоймами и нако-
нечниками, но к поясу достоверно принадлежали только два наконеч-
ника свисающих ремешков с боковыми вырезами и большой наконеч-
ник (рис. 1: 6–8), а также, возможно, один или несколько наконечни-
165
Сугдейский сборник. Вып. II. 2005.
ков ремешков с прорезью (рис. 1: 9). Т-образные бляшки (рис. 1: 5) в
погребениях кочевников, как показывают примеры п. 3 к. 5
Виноградного и п. 2 к. 3 Сивашовки, связаны с портупеей меча, но
располагаться они могли как на поясе (на основном ремне и на
свисающих ремешках), так и на самой портупее. На наш взгляд, при-
сутствие бляшек этого типа на ремне указывает на ношение его собст-
венником меча, даже если такового непосредственно в погребение и
не уложили. Бронзовые Т-образные бляшки другого типа (рис. 1: 11;
2: 13) обычно называют “колчанными крюками”, но физически кре-
пить к ним колчан было проблематично. В п. 12 к. 7 Христофоровки
[Prichodnyuk, Fomenko 2003] такая бляшка действительно сочеталась
с колчаном, но находясь на свисающем ремешке, эта бляшка макси-
мум помогала фиксировать у ноги подвешенный на портупее колчан,
а скорее просто служила для подвешивания сумочки. Кроме пряжки
(рис. 1: 10), поясу в этом погребении мог принадлежать и поясной на-
конечник [Prichodnyuk, Fomenko 2003, fig. 2: 16], но он находился во
входной яме вместе с луком и поэтому с такой же долей вероятности
мог принадлежать ремню портупеи налучья. На фоне литых
серебряных деталей обуви скромный бронзовый пояс выглядит
несколько необычно — его трудно объяснить иначе, чем низким
рангом погребённого. В п. 1 к. 8 Христофоровки [Prichodnyuk,
Fomenko 2003] пояс состоял из железной пряжки с бронзовыми обой-
мами и серебряной бляшки свисающего ремешка (рис. 1: 12, 13). В п.
2 к. 5 Родионовки [Комар, Кубышев, Орлов 2005] — из бронзовой
пряжки и двух латунных наконечников (рис. 1: 21–23), в п. 2 к. 1F
Аджиголя [Ebert 1913] — из железной пряжки и двух бронзовых на-
конечников свисающих ремешков (рис. 1: 14–16), а в Зиновьевке [Ры-
ков 1929] — из основного наконечника и трёх наконечников свисаю-
щих ремешков разных вариантов (рис. 1: 17–20). Последний факт под-
талкивает к предположению, что ремешки на ремне из Зиновьевки
добавлялись постепенно, отражая какую-то символику заслуг его
собственника.
Пояса типа II (рис. 2) отличаются наличием на основном ремне
одной щитовидной или одной „двурогой” бляшки. Пояса варианта IIа
со щитовидными бляшками — п. 7 к. 1 Костогрызово [Комар, Кубы-
шев, Орлов 2005], п. 2 к. 14 Дымовки [Айбабин 1985], п. 12 к. 8 Бога-
чёвки [Генинг, Корпусова 1989], хут. Епифанова [Безуглов 1985], к.
35 Виноградного [Орлов, Рассамакин 1996] п. 12 к. 13 Рисового
[Щепинский, Черепанова 1969] (рис. 2: 5–20). Варианты щитовидных
бляшек здесь не повторяются — похоже, особого стандарта не сущест-
вовало; бляшки из Дымовки и Рисового бронзовые, остальные — сере-
бряные, при том, что в Костогрызово пряжка и наконечник брон-
зовые. Пояса варианта IIб с “двурогими” бляшками — п. 3 Рябовки
[Обломский, Терпиловский 1993] и п. 7 к. 7 Христофоровки [Prichod-
nyuk, Fomenko 2003] (рис. 2: 21–25). Серебряные здесь только плас-
тинка наконечника из Рябовки и “двурогая” бляшка из Христофо-
ровки (рис. 2: 23, 25). Серебряный поясной набор из п. 2 к. 3 Иловатки
166
Комар А.В. Ранговая семантика наборных поясов …
[Смирнов 1959] сочетает в себе и щитовидную и “двурогую” бляшки
(рис. 2: 1–4), указывая на общность поясов II типа.
Щитовидная бляшка, появляющаяся на основном ремне, несом-
ненно, отражала первый ранг “куркапына” — “держащего чин/по-
яс” — условно “ранг Y”. В то же время два пояса с “двурогими” бляш-
ками, особенно пояс с серебряной бляшкой из п. 7 к. 7 Христофоров-
ки, возможно, указывают на существование второго начального чи-
на — “ранг Х”, которые объединялись только в п. 2 к. 3 Иловатки —
“ранг ХY”.
Пояса типа III (рис. 3; 4) объединяются по наличию 4 щитовид-
ных бляшек. Изучение поясного набора из п. 11 к. 1 Черноморского
[Комар, Орлов, Симоненко 2005] позволило нам выделить в его соста-
ве две хронологические группы. Вначале более узкий пояс был
украшен лишь литой щитовидной бляшкой с волнистой прорезью
(рис. 3: 2), затем к нему добавили более крупный прессованный набор
из 3 щитовидных бляшек с круглым вырезом, 4 “двурогих” бляшек и 4
наконечников свисающих ремешков (рис. 2: 3–8, 10, 12, 14, 16, 17).
Похожую ситуацию наблюдаем и в п. 2 к. 3 Сивашовки [Комар,
Кубышев, Орлов 2005]: начальный пояс украшали одна щитовидная
бляшка с серповидной прорезью, литой наконечник с боковыми
вырезами и Т-образная бляшка (рис. 3: 26, 30, 32), затем к нему
добавили набор из чуть более крупных 3 щитовидных бляшек с
круглым вырезом и 3 прессованных наконечников ремешков с
прямыми боками (рис. 3: 27–29, 33–35); “двурогую” бляшку отнести к
какому-либо из наборов трудно, но по диаметру отверсий на бляшке
она близка наконечникам второго набора.
Пояса из погребений у ст. Калининской нам знакомы лишь по
публикации, но модель развития поясов Черноморского-Сивашовки,
похоже, срабатывает и здесь. В п. 10 к. 4 Калининской [Атавин 1996]
набор начался с маленькой щитовидной бляшки с волнистой про-
резью и небольшого наконечника с боковыми выступами (рис. 3: 37,
44) и дополнился 3 щитовидными бляшками с круглым вырезом с 3
более крупными наконечниками (рис. 3: 38–40, 45–47); “двурогая”
бляшка, так же, как и в Сивашовке, могла принадлежать к обоим
наборам.
Также в комплексе присутствуют две “некомплектные”
щитовидные бляшки с волнистой прорезью [Атавин 1996, табл.10: 4],
которые, судя по всему, не принадлежали основному ремню. Пояс из
п. 3 к. 30 Калининской [Атавин 1996] также начался с маленькой
щитовидной бляшки и наконечника с волнистыми прорезями (рис. 3:
19, 23), но был дополнен лишь 2 щитовидными бляшками с круглым
вырезом и наконечником с золотой вставкой (рис. 3: 20, 21). Не
исключено, что третья бляшка была просто утеряна при жизни, но её
функцию теоретически могла исполнять и бляшка с птичьими
головками (рис. 3: 22), как о том свидетельствует пример набора из
Портового (рис. 6: 38–40).
167
Сугдейский сборник. Вып. II. 2005.
Рис. 3. Пояса типа III: 1–18 — п. 11 к. 1 Черноморского; 19–25 — п. 3 к. 30 Калининской; 26–36 —
п. 2 к. 3 Сивашовки; 37–49 — п. 10 к. 4 Калининской.
Ещё один набор из п. 7 к. 1 Бережновки I [Синицын 1959] с 4 щито-
видными бляшками с круглыми вырезами и одной “двурогой” (рис. 4: 2–
6) выглядит довольно монолитным, но различия вариантов наконечни-
ков свисающих ремешков (рис. 4: 8–10), подобно ситуации в Зиновьевке,
скорее указывают опять на поэтапность формирования пояса.
168