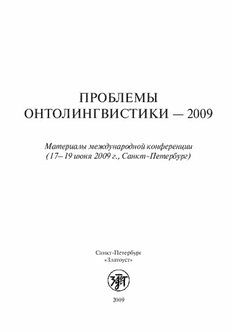Table Of ContentПРОБЛЕМЫ
ОНТОЛИНГВИСТИКИ — 2009
Материалы международной конференции
(17–19 июня 2009 г., Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург
«Златоуст»
2009
УДК 811.161.1
Проблемы онтолингвистики — 2009 : материалы международной
конференции (17–19 июня 2009 г., Санкт-Петербург). — СПб. : Злато-
уст, 2009. — 388 с.
ISBN 978-5-86547-509-5
Конференция проводится при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
проект № 09-06-06063-Г
Редакционная коллегия:
Т.А. Круглякова (отв. редактор), М.Б. Елисеева,
М.А. Еливанова, И.Н. Левина
Гл. редактор: А.В. Голубева
Компьютерная верстка: Л.О. Пащук
Печатается в авторской редакции
© Коллектив авторов (текст), 2009
© ЗАО «Златоуст» (редакционно-издательское оформление, издание, лицен-
зионные права), 2009
Подготовка оригинал-макета: издательство «Златоуст».
Подписано в печать 08.06.2009. Формат 60х90/16. Печ.л. 24,25. Печать цифровая.
Тираж 200 экз.
Код продукции: ОК 005-93-953005.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию издательства Государствен-
ной СЭС РФ № 78.01.07.953.П.002067.03.05 от 16.03.2005 г.
Издательство «Златоуст»: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 24, кв. 24.
Тел.: (+7-812) 346-06-68, факс: (+7-812) 703-11-79, e-mail: [email protected],
http://www.zlat.spb.ru
Отпечатано в типографии «Ком-принт». Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34.
Тел./факс: (7-812) 635-68-24.
Введение
Конференции по онтолингвистике (детской речи) проводятся в
России практически ежегодно начиная с 1994 года. С каждым годом
растет интерес к проблемам усвоения языка, увеличивается число
участников и расширяется круг обсуждаемых проблем.
Конференция «Проблемы онтолингвистики-2009» организована
кафедрой детской речи РГПУ им. А.И. Герцена. В качестве доклад-
чиков выступают ученые из разных городов России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Череповца, Воронежа, Саратова, Томска, Перми, а также
исследователи из Германии, Швеции, Болгарии, Польши, Нидерлан-
дов, Чехии, Украины.
Среди докладчиков и известные ученые, и молодые исследовате-
ли: аспиранты, магистранты, студенты российских вузов. Многие ав-
торы — активные участники всероссийского постоянно действующего
семинара по онтолингвистике, работающего с 1993 года.
На этой конференции мы не услышим голоса одного из самых ак-
тивных участников семинара Геннадия Михайловича Богомазова, ко-
торый погиб в автокатастрофе 5 мая. Содержание его доклада печата-
ется в этом сборнике.
Онтолингвистика — сравнительно молодая научная дисциплина,
однако исследования в этой области привлекают в наше время внима-
ние как опытных, так и молодых ученых и позволяют решать задачи
как чисто теоретические, так и прикладные (методика развитии речи
детей, коррекция речи, методика русского языка как иностранного для
детей и т.п.). Бурное развитие онтолингвистических исследований в
последнее десятилетие потребовало от специалистов в области детской
речи обсуждения вопросов методологического характера. Пленарные
заседания конференции посвящены обсуждению объекта и предмета
онтолингвистики как науки, определению ее места среди других наук о
языке, описанию различных методов исследования в области детской
речи.
Круг вопросов, заявленных в докладах, очень широк: освоение
грамматики родного языка, постижение звуковой стороны речи, ста-
новление лексикона, овладение письменной формой речи и т.д. По-
мимо традиционно обсуждаемых на конференциях по детской речи
проблем предполагается рассмотреть вопросы становления речевой
коммуникации и текстовой компетенции, развитие метаязыковой дея-
тельности, влияние инпута на становление речи ребенка, специфику
гендерных различий в ходе усвоения языка, формирование языковых
систем в ситуации двуязычия, проблемы языковой аттриции.
3
С каждым годом расширяется не только круг обсуждаемых про-
блем, но и сам материал онтолингвистических исследований. Пред-
ставленные на конференции доклады сделаны на базе анализа речи не
только русскоговорящего ребенка, но и детей, осваивающих англий-
ский, польский и голландский (нидерландский) языки. Обсуждаются
особенности развития русской речи билингвов и детей-инофонов, для
которых родным являются азербайджанский, удмуртский, итальян-
ский, немецкий, шведский языки. К исследованию привлекается речь
дошкольников, младших школьников, подростков, студентов, иссле-
дуется вокально-речевое взаимодействие взрослых и детей первого
года жизни.
Практическое значение исследований в области детской речи в со-
временном обществе велико, что привлекает внимание к очерченному
кругу проблем как лингвистов, так и психологов, физиологов, лого-
педов, методистов по развитию речи, поэтому в рамках конференции
речь ребенка рассматривается и как объект междисциплинарных ис-
следований.
Результаты научных исследований представлены на конференции в
виде пленарных и секционных докладов.
Участники конференции выражают благодарность Российскому
фонду фундаментальных исследований, поддержавшему проведение
данной конференции.
4
ОНТОЛИНГВИСТИКА:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Т.В. Базжина (Москва)
Специфика русской
воспитательной коммуникации
Уже больше трех десятилетий у исследователей детской речи в тер-
минологическом обиходе есть магическое слово input: спусковым ме-
ханизмом для его широкого применения при обсуждении вопросов
усвоения языка послужил выход в свет работы К. Сноу и Ч. Фергюсона
[Snow C., Ferguson Ch. 1977].
И если в современных дискуссиях input рассматривается вкупе с
прилагательным negative — как корректирующая реакция взрослого
на ошибочное в речи ребенка [Saxton; Backley; Gallaway 2005; Казаков-
ская 2006], то изначально в рамках социопрагматической концепции
усвоения языка инпут рассматривался как исключительно позитивный
вклад взрослого. Стоит отметить, что расцвет рассуждений о позитив-
ности инпута пришелся на середину 80-х годов XX века, то есть на то
время, когда метафора искусственного интеллекта и информационно-
го общества стала завоевывать себе место в научных описаниях. Наибо-
лее, пожалуй, значимый вклад в распространение этой метафоры внес
Н. Луман [Luhmann 1986; Luhmann 1987], который, правда, использо-
вал обе ее составляющих — не только input, но и output, то есть «ввод»
и «вывод», «включение» и «отключение». Об output’е применительно
к детской речи, к усвоению языка в детстве слышать практически не
доводится. И коммуникация «взрослый-ребенок» описывается со сте-
реотипной пресуппозицией «взрослый — знает и умеет, он доминанта в
коммуникации, он учит ребенка, ребенок учится».
Книга К. Сноу и Ч. Фергюсона дала исследователям детской речи
еще одно теоретическое достояние — baby talk, как особый регистр об-
щения взрослого и ребенка, когда взрослый находит способы адапти-
роваться к своему маленькому партнеру по коммуникации, поскольку
у него существенно выше коммуникативная компетенция. Из амери-
канской этнокультуры baby-talk перешло в описание и русскоязычной
коммуникативной системы и заняло свое место в арсенале исследова-
телей.
5
Простое наблюдение над общением русских матерей1 с детьми по-
казывает, что оно имеет ряд особенностей: так, сентенции «будешь себя
так вести — отдам милиционеру» (вариант — останешься один), «сиди
тихо, не позорь меня перед людьми», «хорошие девочки себя так не ведут»,
«нельзя + X (где X — действие: шуметь, бегать, прыгать...)» признаются
«нормальными, привычными, обычными», тот же факт, что нацелены
они на выработку навыка безукоснительного подчинения той власти,
что исходит от взрослого, практически остается вне обсуждения. Мож-
но счесть, что дидактизм и властность русского baby-talk — это вопрос
уже не столько лингвистики, сколько социальной культуры. Впрочем,
о дидактизме русскоязычной коммуникации пишут и лингвисты, и не-
лингвисты. Отмечают, что наше коммуникативное поле «необычайно
мощно заряжено дидактической энергией — все друг друга неустанно
воспитывают. Учеников нет — одни учителя («Вы дома тоже бумажки
на пол кидаете, мужчина?)» [Рубинштейн, 2000, с.88]. Подмечают эту
дидактичность и иностранцы, которых удивляет, что матери ребенка
можно сделать замечание по поводу ее ребенка, что можно воспиты-
вать взрослых компетентных людей, указывая им, как себя вести. И в
лингвистических описаниях, хотя и принято рассматривать диалог с
позиций кооперативной иллокуции, когда слушающий действительно
понимает то, что хочет получить от него говорящий (например, полу-
чить ответ на вопрос, выполнить просьбу, принять предложение или
совет, правильно воспринять информацию от говорящего), появляют-
ся замечания, что в действительности же, однако, очень многие быто-
вые диалоги проходят вовсе не в кооперативном режиме. «Больше того,
можно утверждать, что именно некооперативные ответные реплики слу-
шающего являются нормой и, если можно так выразиться, движущей
силой большинства реальных русских бытовых диалогов» [Крейдлин
2006: 283–284]. Эта некооперативность выражается в том, что в споре,
1 О том, что матери — разные, общаются по-разному, и в разных культурах
это разнообразие представлено, написана не одна работа. См., например, The
Different Faces of Motherhood. N.Y., L.,1988. и Авдеева Н.Н, Ганошенко Н.И.,
Мещерякова С.Ю. Изучение психологической готовности к материнству как
фактора развития последующих взаимоотношений ребенка и матери // Со-
росовские лауреаты: Философия. Психология. Социология. М., 1996. URL:
http://www.psychology.ru/library/00072.shtml Речь, конечно же, о некоем комму-
никативном тренде, если не сказать о сложившейся тенденции или традиции.
Но отмечается и тот факт, что «ругань в России слишком часто стоит в
одном ряду с пьянством, раболепием перед начальством, ксенофобией, шан-
соном, уголовной романтикой и привычкой прилюдно орать на своих детей».
URL: http://gazeta.ru/comments/2009/05/04_a_2982103.shtml
6
да и при простом обсуждении некоторой темы люди даже не стремятся
приводить доводы — вполне достаточно эмоций, поскольку они абсо-
лютно уверены в собственной правоте и истинности своего мнения. В
общении с ребенком эта уверенность усугубляется еще и тем фактором,
что взрослый «имеет право на истину и правильность, потому что он
взрослый».
Представляется продуктивным посмотреть реальное поведение
взрослого в диалогах с ребенком. Дело в том, что диалог «взрослый-
ребенок» существенно отличается от диалога «ребенок-взрослый».
Если инициатива исходит от взрослого, то он старается добиться ре-
зультата всеми силами:
В А это что у девочки тут? Как это называется? Р Это… В Ну-у…
что это? Но…Р Носик! В Пра-а-вильно, носик!
даже если это приводит к коммуникативной неудаче
В А Фрекен Бок что делает?...Ванечка, а Фрекен Бок что делает?...
Что Фрекен Бок делает? Смотри, Карлсон улетает, а Фрекен Бок что
делает? Р Улетает. В Улетает разве?1
Такая «кооперация», впрочем, похожа скорее на коммуникативное
вынуждение, на навязывание себя в качестве партнера по общению.
Если же речевая инициатива исходит от ребенка, то активность
взрослого куда меньше:
Р А чем сказка закончилась? Р А почему у зайчика хвостик?
В Ой, ну я не помню В Ну-у-у.... я не знаю
Р Трамвай надо обходить Р А когда мы домой придем?
спереди. Почему? В Сам подумай
В Так надо.
Р А почему волк плачет? В Зайчик его обидел, обманул его. Р А почему
он его обидел? В Ну ты смотри дальше и узнаешь сам потом, Саш.
В этих взрослых не знаю, ой, не помню, сам подумай, потом узнаешь,
так надо выражается нежелание взрослого трудиться над поддержани-
2 Пример из дипломной работы В.В. Милеевой «Роль детских вопросов в
организации диалога со взрослым». – М.: РГГУ, 2008 – 90 с. (рукопись)
7
ем коммуникации, если инициатива исходит не от него, если он ока-
зывается ведомым, если требуются не только интеллектуальные, но
и вербальные усилия. Куда проще ответить не знаю, чем рассказывать
сказку, сослаться на магическое так надо (а это действительно сродни
магическому заклинанию — как некий непреложный закон), чем объ-
яснять, почему нечто устроено и обустроено так, а не иначе.
На предложение ребенка А давай... , то есть на запрос совместного
действия, возникает стереотипная реакция взрослого сам или потом:
Р А давай побегаем? Р А давай книжку почитаем?
В Бегай сам. В Потом.
В общем, коммуникация складывается ровно так, как она описы-
вается в известной притче: «Ибо сказано: не просите ни о чём больших
и взрослых, потому что они сами к вам придут и дадут вам всё. Когда
посчитают нужным». Подобное «откладывание» действия на неопреде-
ленное будущее и/или предложение выполнять действие самостоятель-
но возникает только в том случае, если в планы взрослого это действие
не входит. Именно он выступает в качестве доминанты — не только
коммуникативной, но и действенной:
В Ты одеваешься? Я жду тебя гулять, давай одевай сапожки.
Р А почему ты меня ждешь?
В Потому что ты медленно всё делаешь, вот и жду.
Р А ты не уйдешь?
В Если ты будешь так медленно всё делать, то уйду, давай быстрей.
Привычное и принятое описание диалогов между ребенком и взрос-
лым в терминах вопросно-ответных реплик далеко не всегда является
адекватным, в силу того что диалоги строятся по вопросно-вопросному
принципу:
Р А где папа?
В Папа на работе.
Р А он скоро приедет?
В А зачем он тебе?
или по принципу ответа на свое ожидание (такое весьма своеобразное
иллокутивное вынуждение):
Р А что это тут такое?
В Ой, не трогай, разобьёшь. Аккуратнее, аккуратнее. Это ваза.
8
Р Дядя Владик, а что это тут?
В Ой, Сём, аккуратнее, это поднос, в него фрукты кладут.
Р А-а-а…Поднос?
В Ну да.
Вряд ли не трогай, аккуратней можно счесть коммуникативно
ожидаемыми и адекватными ответами на вопрос что это. Ллойд де Моз
рассматривает такие случаи как отсутствие эмпатии, особо оговаривая,
что понимает эмпатию уже, чем ее словарное определение, а именно:
как способность взрослого регрессировать к уровню потребностей ре-
бенка и правильно распознать их без примеси своих собственных про-
екций [Де Моз, 2000, с. 22], то есть как способность взрослого слушать
и воспринимать обращенный к нему запрос, а не свой ответ на свои
собственные ожидания, страхи, предубеждения.
Как отмечает П. Вацлавик, большая часть диалога взрослого с ре-
бенком построена на навязывании взрослым своего мнения, своего
положения вещей, своих правил, своих условий [Вацлавик и др. 2000:
142] как одной из форм превентивного противодействия изменениям.
В данном контексте изменение — не что иное, как проявление воли и
желания со стороны ребенка. Это небрежение занятиями ребенка, его
интересами влечет зачастую нерефлексируемое взрослым вовлечение
аргументации ad hominem в диалог с ребенком:
Р Мам, я уже почти дособирала картинку, осталось чуть-чуть до-
делать.
В Да оставь её, пойдем лучше погуляем, пока солнышко. Оставь кар-
тинку свою, оставь.
Р А у меня уже почти получается!
В Да ладно тебе, пойдем, ерунда всё это, пошли, собирайся, потом до-
делаешь.
Занятия ребенка, его успехи/удачи/неудачи обозначаются как ерун-
да, как нечто не заслуживающее внимания, потому что планируемое
взрослым лучше (полезнее, продуктивнее, прагматически ценнее). В бо-
лее ярких проявлениях — взрослый не просто использует риторическую
тактику вынуждения (а не убеждения), но и указывает на то, что лич-
ностные желания ребенка, его состояния в расчет не принимаются:
В Лиль, а ну-ка быстро одень свитер! На улице ветер, ты заболеть
что ли хочешь?!
Р Ну мне в нем жарко!
9
В А мне все равно, что тебе жарко, одень быстро!
Р Ну мааам…
В Никаких «ну мам», одевай давай.
Как известно, убедить и заставить — два противоположных це-
леполагания в коммуникации: там, где реализуется заставить, возни-
кает императивная коммуникация и реализуется воля к власти. Стра-
тегии предостережения / устрашения (если ты сейчас не прекратишь,
то я тебя дома оставлю!), инвективное оценивание внешнего вида (Ну
и на кого ты теперь похож, а? Посмотри на себя, весь чумазый. Ну по-
смотри на себя, на кого ты похож, как хрюшка сидишь!), риторические
восклицания с апелляцией к норме (Ну разве так хорошие девочки де-
лают, а?) свидетельствует о конфликтной заряженности коммуника-
ции «взрослый-ребенок» и стремлении взрослого к реализации своей
властной позиции. Многие наблюдатели отмечают, что в американской
традиции воспитания, если ребенок не понимает того или иного табу,
ему говорят, например: "This is something that people never do...", то есть
«Этого люди никогда не делают». В этой формуле нет запрета для ребен-
ка, а есть запрет для всех, и есть попытка обратить внимание ребенка на
этот запрет для всех, то есть ребенка пытаются убедить, а не заставить
его подчиниться. Ребенок не отделяется, не противопоставляется миру
взрослых, он воспринимается как часть коллектива, в котором он учит-
ся жить и нормы которого учится разделять.
Одна из моих респонденток рассказывала, что однажды, когда ее
внучка с радостью рассказывала: Я бабу била, била, била — она строго
спросила: А разве это хорошо: бить бабу? — и услышала в ответ: Это о-о-
чень плохо. Получив этот констатирующий ответ известной правильно-
сти и нормативности поведения, бабушка поняла, что такое коммуни-
кативная неудача, а точнее, что такое выключение из коммуникации,
тот самый output.
Безусловно, есть детские вопросы, которые застают взрослых вра-
сплох, на которые у них нет однозначных ответов:
Р Зачем мужчинам женщины?
В Э-э-э... понимаешь…
Р Да я сам знаю: чтобы их можно было защищать.
В (радостно соглашаясь) Да-да, конечно.
Вопросы о взаимоотношениях полов, о смерти, о правильности по-
ведения взрослого и о его оценке заслуживают отдельного обсуждения.
Их рассматривают в особом разделе и под особым грифом — «Деликат-
10