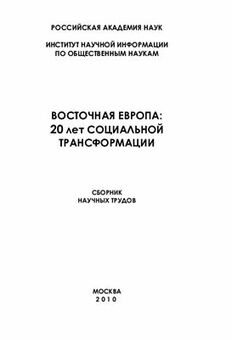Table Of ContentРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА:
20 лет СОЦИАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
СБОРНИК
НАУЧНЫХ ТРУДОВ
МОСКВА
2 0 1 0
ББК 66.0; 66.4; 63.5
В 78
Серия
«Проблемы общественной трансформации
в странах Восточной Европы и России»
Центр научно-информационных исследований
глобальных и региональных проблем
Отдел Восточной Европы
Редколлегия:
Ю.И. Игрицкий – канд. ист. наук (отв. ред.), Л.Н. Шан-
шиева – канд. филос. наук (отв. ред.), В.Н. Бабенко – д-р
ист. наук, Т.Г. Биткова – канд. филол. наук, Е.Б. Калое-
ва – канд. ист. наук, Л.С. Лыкошина – д-р ист. наук,
Ю.А. Щербакова – канд. ист. наук.
Восточная Европа: 20 лет социальной трансфор-
В 78 мации. Сб. науч. трудов / РАН. ИНИОН. Центр науч.-
информ. исслед. глобал. и регионал. проблем. Редколл.:
Игрицкий Ю.И. (отв. ред.), Шаншиева Л.Н. (отв. ред.)
и др. – М., 2010. – 198 с. – (Сер.: Проблемы обществен-
ной трансформации в странах Восточной Европы и Рос-
сии).
ISBN 978-5-248-00534-5
Рассматриваются проблемы развития государств Восточной Ев-
ропы после начала общественно-политической трансформации в
конце 1980-х годов. Анализируются радикальные изменения в поли-
тике, экономике, социальной жизни восточноевропейского региона в
целом и входящих в него стран. Исследуются последствия вхожде-
ния отдельных стран в Европейский союз; уделено внимание влия-
нию финансово-экономического кризиса на их развитие.
ББК 66.0; 66.4; 63.5
ISBN 978-5-248-00534-5 © ИНИОН РАН, 2010
2
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.......................................................................................4
Н.И. Бухарин. Преобразования в странах Центрально-Восточ-
ной и Юго-Восточной Европы: Достижения и проблемы.....12
Л.Н. Шаншиева. Трансформация в Восточной Германии –
универсальная модель смены систем......................................31
Л.С. Лыкошина. Польские политические партии в поисках
идейной идентичности..............................................................45
Т.Г. Биткова. Политика и экономика Румынии: История
реформ и их перспективы.........................................................86
Е.Б. Калоева. Культурная политика в постсоциалистических
странах на примере Сербии и Хорватии...............................116
Ю.А. Щербакова. Словацкая Республика: Смена правящих
элит и моделей трансформации..............................................131
В.Н. Бабенко. Украинская государственность в условиях
социально-политической трансформации
(1991–2010 гг.).........................................................................156
Ю.А. Щербакова. Российские ученые о трансформации
политической системы Чешской Республики.......................183
3
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы, россияне, уже привыкли измерять течение ХХ века
преимущественно мировыми войнами и революциями в собствен-
ной стране. Мы говорим, что для всего мира судьбоносное значе-
ние имели события 1917, 1941–1945, 1985 и 1991 годов. На этом
фоне меркнет дата «1989».
И это большая ошибка. Как без 1985 года («перестройки» и
«нового мышления») не было бы 1989-го (или «бархатные рево-
люции» совершились бы намного позже), так и без 1989 года, ско-
рее всего, не было бы 1991-го, в котором системный кризис в Со-
ветском Союзе дополнился судьбоносным (для него)
федеративным кризисом. Восточноевропейские революции прида-
ли мощный дополнительный импульс радикальным переменам в
СССР, усилив центробежные тенденции в союзных республиках.
Их влияние на распад Союза и системные изменения, по существу,
еще не изучено; мы видели источник реформ в себе (что естест-
венно), влиянии Запада, да, собственно, в чем угодно, только не в
архитектонике Восточной Европы – и в данном случае мы ошиба-
лись.
Но восточноевропейские революции ценны и сами по себе.
По сути, они были крупнейшим событием мирового, и уж точно
общеевропейского, масштаба, покончив с разъединением Европы
(не только Германии!) и резко изменив геополитическую ситуа-
цию на Старом континенте. «1989 год стал одним из лучших в
европейской истории, – полагает оксфордский профессор
Т. Гартон Эш – …Всемирная история творилась (если употребить
этот термин в квазигегельянском смысле) в самом центре Старого
континента». (Гартон Эш Т. 1989 год и перспективы «бархатных
революций» // Pro et contra. – М., 2009, № 5–6. – С. 124.)
Ранее зависимые восточноевропейские государства (говоря о
всех разом) впервые в истории обрели реальный суверенитет на-
4
всегда или, во всяком случае, на длительную перспективу. Можно
дискутировать о степени их прежней зависимости в разные време-
на и о полноте нынешней самостоятельности с учетом необходи-
мости подчиняться нормам ЕС, а также экономического превос-
ходства и политического влияния мировых держав (последние два
фактора всегда и везде носили относительный характер) – но факт
обретения независимости неоспорим. Это главный итог событий
более чем двадцатилетней давности. Не отказ от коммунизма и
путевка в светлое капиталистическое будущее, не восприятие ли-
беральных ценностей, не «воссоединение» с Европой, а именно
обретение государственного суверенитета.
Второй по значимости итог – смена модели развития, подоб-
ная тем, что происходили в России в 1917 г. и в Восточной Европе
после Второй мировой войны. Но с противоположным сущност-
ным (политическим, экономическим, социальным) знаком. Как и
всегда, когда старая модель (строй, система) оказывалась мало-
жизнеспособной и дискредитированной, ее институты замещались
в исторически кратчайшие сроки – за несколько лет.
Третий итог – изменения в сознании людей, процесс гораздо
более длительный и еще во многом не завершившийся, но тем не
менее реальный. В этот процесс включены и ранняя послереволю-
ционная эйфория, и надежды людей на рост благополучия, и по-
вышение социального статуса, и разочарование в социальных
ожиданиях вплоть до фрустрации, и постепенное привыкание к
условиям конкуренции, к отсутствию государственного патерна-
лизма в прежнем объеме, и осознание роли частной собственности,
и синергетическое пробуждение, и многое-многое другое, прояв-
ляющееся во всех сферах общественного бытия.
Если принять первый итог пройденного пути за аксиому и
больше к нему не возвращаться, то для оценки развития восточно-
европейских стран в послереволюционный период наибольшее
значение будут иметь социальные, политические и экономические
результаты смены парадигмы развития. На вопрос о том, сформи-
ровались ли в этих странах политический плюрализм, демократи-
ческая парламентская система, гражданское общество, правовое
государство, следует дать утвердительный ответ. Авторитарные
склонности высших лиц в ряде государств, недостаточная зрелость
новых политических элит, парламентская чехарда, размытость
программ политических партий, всплески иррационального на-
ционализма, коррупция – все эти явления, заметные ныне в Вос-
точной Европе, в разной степени наблюдались и наблюдаются во
5
всех странах мира до и после любых реформ и не могут свидетель-
ствовать об отсутствии демократических институтов в восточно-
европейских посткоммунистических странах.
Столь же бесспорно и то, что повсюду в данном регионе
сложились и развиваются институты частной собственности и ры-
ночной экономики в результате приватизации и ограничения роли
государства в хозяйственной жизни. Эти базовые процессы приве-
ли к возникновению новых социальных классов и групп. Не пре-
кращаются (хотя и затухают) дискуссии о том, являются ли до сих
пор восточноевропейские общества переходными или их переход к
современному капитализму уже полностью завершен, но карди-
нальные изменения в социальной структуре этих обществ неоспо-
римы. Повсюду возникли достаточно крупные слои собственников
и лиц наемного труда в частном секторе экономики. Исследовате-
ли отмечают существенное сходство в статусах и типах социаль-
ного поведения среди представителей наиболее состоятельных и
благополучных групп населения во всех посткоммунистических
странах при значительной дифференциации малоимущих слоев в
данном отношении (см. об этом, напр.: Талкиджиев Н. Новые
посткоммунистические иерархии: Группы стран и социальные
группы // Восточноевропейские исследова-ния. – М., 2005. – № 2. –
С. 80–84). Сделан вывод о том, что «социально-профессиональные
группы одного типа во всех посткоммунистических странах оди-
наково понимают демократические ценности» (там же, с. 79).
Тем не менее различия в скорости движения к полнокровно-
му либерально-демократическому обществу были и остаются оче-
видными. Преувеличенно, но в целом метко венгерский социолог
Иван Селеньи назвал посткоммунистические центрально-
европейские страны «обществами капитализма без капиталистов»,
а страны Юго-Восточной Европы обществами «капиталистов без
капитализма» (Poverty under post-communism / Ed. by I. Szelenyi. –
Sofia, 2002. – P. 8–14). Если расшифровать этот каламбур, то сле-
дует читать, что в первой группе стран становление капиталисти-
ческих отношений не породило своих полновесных ротшильдов и
рокфеллеров (возможно, и не породит), а во второй группе стран
уже на стадии первоначального накопления появились мощные
собственники. Это различие – результат не столько собственно
антикоммунистических революций, сколько общественно-истори-
ческого развития Восточной Европы на протяжении двух предше-
ствующих столетий, когда городская буржуазия и индустриальный
капитализм, возникнув в Чехии, Польше, Венгрии, только начина-
6
ли «прорастать» в аграрной Юго-Восточной Европе. И посему
разные скорости перехода к современному капитализму вполне
закономерны. Появление прослойки лиц, обзаведшихся большим
капиталом до формирования зрелого частного сектора в экономи-
ке, – примета квазикапитализма, феномен самого раннего этапа
так называемого «догоняющего развития».
Социальные издержки смены модели развития также оказа-
лись различными в зависимости от величины создаваемого обще-
ственного продукта и социальной политики государств. Уже в се-
редине прошлого десятилетия совокупные социальные расходы в
Чехии, Польше, Венгрии и Словении составляли чуть меньше или
чуть больше 20% ВВП; в Болгарии, Румынии, Словакии, Сербии и
Хорватии – в диапазоне 14–17% ВВП; в других странах еще мень-
ше. Тем не менее практически всюду со временем наблюдалось
известное улучшение условий жизни населения. Уровень реаль-
ной заработной платы в государствах, вступивших в ЕС, превысил
в 2007 г. в 1,5–2,5 раза уровень 1992 г. (Восточная Европа:
Двадцать лет спустя. «Круглый стол» // Новая и новейшая исто-
рия. – М., 2009. – № 6. – С. 9–10). Чехия, наиболее развитая про-
мышленная страна региона, достигла в 2008 г. самого высокого
уровня жизни за всю историю, обеспечив своим гражданам зара-
ботную плату по уровню покупательной способности в размере
80% от уровня США. По данным Евростата, доля бедных слоев в
Чехии в 2008 г. составила 9% населения; в Словакии – 11, Слове-
нии – 12, Болгарии – 20, Румынии – 23% (см.: Бухарин Н.И. Пре-
образования в странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной
Европы: Достижения и проблемы // Россия и современный мир.–
М., 2010.– № 2.– С. 55–56).
Исследователи привычно связывают достижения восточно-
европейских государств с их ориентацией на ЕС и вступлением в
ЕС. С методологической точки зрения важно не преувеличивать
этой связи, ибо такое преувеличение автоматически снижает зна-
чение их саморазвития. В конце концов речь идет о процессах со-
циальных изменений, через которые прошли все современные об-
щества в эпоху модерна. Но нельзя отрицать очевидное: став
равноправным политическим партнером более развитых стран Ев-
ропы в рамках большого надгосударственного образования, новые
члены Европейского Союза получили гораздо более широкие воз-
можности ускорить свое «догоняющее» развитие.
Было ли оно, это развитие, хотя бы относительно безоблач-
ным? И на этот вопрос ответ ясен: нет, не было. Ибо вхождение в
7
Евросоюз с самого начала не только сулило дивиденды, но и несло
с собой обязательства и ограничения. Сущность проблемы хорошо
осветила Н.В. Куликова: «Институциональная адаптация, которую
осуществили страны согласно копенгагенским условиям (критери-
ям вступления в ЕС, утвержденным Советом Европы в июне
1993 г. в Копенгагене, – Ю.И.), привела политические, экономиче-
ские, правовые институты и институты гражданского общества в
соответствие с европейскими стандартами. Улучшение институтов
дает мультипликационный эффект, так как эффективное управле-
ние, верховенство закона, политическая стабильность и снижение
уровня коррупции приносят долгосрочные, хотя и не очень види-
мые на первый взгляд дивиденды в плане экономического и соци-
ального развития. Вместе с тем распространение некоторых прин-
ципов политики ЕС на страны ЦВЕ нанесло ущерб их
экономике… Общая сельскохозяйственная политика ЕС сдержи-
вает наращивание выпуска аграрной продукции с целью предот-
вращения кризиса перепроизводства и ориентирована на поддерж-
ку лишь эффективных производителей, что на практике означает
ликвидацию многих хозяйств стран ЦВЕ» (Восточная Европа:
Двадцать лет спустя. «Круглый стол» // Новая и новейшая исто-
рия.– М., 2009.– № 6.– С. 5). Беспрепятственное движение товаров
через границы также имело позитивную и негативную стороны:
экспорт в ЕС способствовал экономическому росту восточноевро-
пейских стран, но импорт из ЕС подорвал на внутренних рынках
позиции национальных товаропроизводителей, которым конку-
ренция оказалась не под силу. Прямые инвестиции из государств –
старых членов ЕС «сыграли ключевую роль в оживлении и модер-
низации экономики… качественно изменили менее слабый рынок
финансовых услуг, стали главным средством расширения систем
телекоммуникаций, способствовали развитию транспортной ин-
фраструктуры, подняли фактически «лежавшую» промышлен-
ность. Однако транснациональные компании использовали терри-
торию стран ЦВЕ преимущественно для размещения предприятий
с низкой или средней производительностью (как правило, сбороч-
ных) и реже создавали в них высокотехнологические производст-
ва», что вело к увеличению технологического отставания этих
стран от своих более развитых партнеров по Евросоюзу
(там же, с. 6).
Наконец, обратимся к мировому финансово-экономическому
кризису – он тоже пришел на Восток Европы с Запада. Бессмыс-
ленно ставить вопрос о том, пережили бы посткоммунистические
8
страны этот кризис менее болезненно, если бы не оказались вовле-
ченными в общеевропейскую интеграцию. Точного ответа на этот
вопрос не может дать никто. И сравнение с Турцией, которая, не
будучи членом ЕС, пострадала от кризиса меньше, чем Греция –
член ЕС, ничего не доказывает. Как у Льва Толстого: все несчаст-
ные семьи (а государство – это большая социальная семья) несча-
стны по-своему. Но в сверхбольшой семье, какой со значительной
долей условности можно назвать Европейский Союз, скорее мож-
но рассчитывать на помощь резервных фондов, к которым тесно
причастна семья (например, МВФ).
Поскольку, как подчеркивалось выше, главным итогом ан-
тикоммунистических революций стало обретение странами Вос-
точной Европы полной государственной независимости, основные
проблемы, возникающие и могущие возникнуть в их отношениях
со «Старой Европой», связаны именно с этим обстоятельством.
Никто в мире не знал, как поведут себя государства «Новой Евро-
пы», обладая реальным суверенитетом. Что Версальский мир
после Первой мировой войны не обеспечил им действительно не-
зависимого существования в межвоенные годы, убедительно дока-
зывает та легкость, с которой в 1938–1939 гг. потеряли независи-
мость наиболее развитые из них – Чехословакия и Польша.
Сейчас, когда обеспечены внешние контуры национальной безо-
пасности восточноевропейских стран, они могут с гораздо боль-
шей уверенностью, чем когда бы то ни было, развертывать знаме-
на национальной самобытности, гордости и даже величия. О чем,
по существу, и свидетельствуют радикальные и порой иррацио-
нальные проявления национализма во многих из них.
В одном из наиболее глубоких исследований посткоммуни-
стического национализма его авторы, Клаус Мюллер и Андреас
Пикель, пришли к выводу о том, что в вызревании «бархатных ре-
волюций» «антисоветские настроения, конечно, сыграли свою
роль, но лишь настолько, насколько они были частью националь-
ных притязаний» (Мюллер К., Пикель А. Многообразие национа-
лизма в посткоммунистической Восточной Европе // Восточноев-
ропейские исследования. – М., 2007. – № 6. – С. 83). И дальнейшую
трансформацию восточноевропейских обществ авторы рассматри-
вают под этим углом зрения. Различия в скорости и глубине обще-
ственных преобразований интерпретируются ими как «националь-
ные отклики на отдельные общерегиональные вызовы в
отношении торговой политики, монетарной политики, приватиза-
ции и, прежде всего, региональной реинтеграции» (там же, с. 84).
9
При этом пожертвование частью суверенитета с вхождением в Ев-
ропейский союз не было утратой национальной самоидентифика-
ции и независимости. «Впервые в истории государства Централь-
но-Восточной Европы были готовы принять законы, институции и
практики, сконструированные внешними силами» – и они не про-
гадали, поскольку это способствовало их либерально-демократи-
ческому развитию (там же, с. 85).
Соглашаясь со всем этим, необходимо понимать, что нацио-
нализм редко самоутверждается исключительно в позитивной,
конструктивной форме, особенно на стадии своей легализации и
легитимации после долгих лет латентного существования. И в
Восточной Европе нашлись силы (движения, партии), готовые
вслед за советской и российской гегемонией отвергнуть нормати-
визм Европейского Союза во имя утверждения национальных цен-
ностей и недопущения каких-либо ущемлений национального су-
веренитета во всех сферах жизни. И тогда появляются лидеры типа
В. Орбана в Венгрии и В. Тудора в Румынии, уловившие признаки
«демократической усталости» масс как следствие неудовлетворен-
ности жизненными условиями и увидевшие мощный потенциал
популистской политики в националистической символике. Тогда
возникает соблазн противопоставить либерально-демократическим
ценностям националистические, полуавторитарные или откровен-
но авторитарные в сочетании с популизмом. Национализм, утвер-
ждающий себя за счет ограничения прав нетитульных (и вообще
других) этносов, несовместим с демократией по определению. Но
вместе с тем вряд ли можно сомневаться в том, что национализм,
способствующий ренессансу нации после периода политического
или идейного разброда, вполне совместим с демократией и спосо-
бен опираться на ее постулаты (см.: Национализм и популизм в
Восточной Европе: Сб. научн. трудов. – М.: ИНИОН РАН, 2007. –
174 с.).
Восточноевропейский национализм, пополняя галерею ев-
ропейских национализмов, не внес чего-либо принципиально но-
вого в политическую жизнь Европы (если не считать концепций
«Великой Румынии» или «Великой Албании», которые не воспри-
нимаются всерьез как сколько-нибудь значимый внешнеполитиче-
ский фактор – в эпоху европейской интеграции такое просто не-
возможно). Но в ряде стран он имеет подоплеку национально-
государственных амбиций с претензией на более весомое место в
ЕС или со скрытой обидой на то, что ведущие державы Союза не
уделяют их проблемам должного внимания, несмотря на их вклад
10